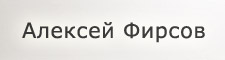
|
Жизнь после смерти живописи Алексей Фирсов «Для каждого художника (то есть созидающего, а не "копииста" чужих ощущений) - его собственные выразительные средства (=форма) лучшие, так как посредством их он лучше всего передает то, что обязан воплотить.»
Василий Кандинский «Они встали в сердце березы, и ветви дерева расходились кругом, - как сияние. Сердце соединено с глубиной земли, а ветви принадлежат солнцу и воздуху, то есть небу. Корни повторяют под землей опрокинутое сияние короны - и в этом громадное значение для темной земли.» Елена Гуро
Образы абсолютного большинства художников классической модернистской эпохи, будь то представители, казалось бы, вполне благополучной западноевропейской или американской школы, или адепты отечественного протестного и подспудного движения нон-конформизма, - неизменно ассоциировались с понятием "другого искусства". В этом понятии, начиная еще с вековой древности, заключался смысл бунтующего против классической нормативности свободного самовыражения личности. Как правило, в разные эпохи оно воплощалось в открытой экспрессии форм, степень и стилистические особенности которой, не менее строго, нежели в сфере академического искусства, соотносились с законами и достижениями художественного языка времени.
Обращаясь к биографиям бунтарей прошлого, находим в их "житиях" немало противоречий. Далеко не все они осознавали собственное противостояние той или иной эстетико-идеологической доктрине как программу творческих исканий, как принадлежность к интернациональному и трансвременному лагерю носителей заветной идеи другого искусства. Как ни странно, вызывающее поведение, болезненное неприятие окружающего и публичное непризнание многих из них было вынужденным: импульс внутренней самореализации по градусу кипения резко превосходил установленные конформистским сознанием границы и полюса допустимых проявлений творческой фантазии. Еще удивительнее, что в итоге, по прошествии исторически короткого периода, оказывалось, что именно эти странные персонажи, ни на кого не похожие безумцы вроде Гойи, Ван Гога или Врубеля, и выкладывали своими костями, кистями и палитрами подлинную магистраль художественного процесса в его наиболее динамичной, банально говоря, передовой фазе. Более того, с каждой эпохой ряды их пополнялись, на смену единицам приходили десятки и сотни. Так сформировался великий глобальный феномен модернистской культуры ХХ века - культуры, которая ныне кажется нам таким благополучным цветником: на клумбах его яркими красками горят полотна французов, американцев, немцев, евреев и русских, в окружении декоративных трав и кустарников скандинавского, испанского, польского, латышского и иного происхождения. Итак, "другое искусство" создавалось художниками, которые потому и создали настоящее искусство, что не были обуреваемы никакими помыслами, кроме честной профессиональной работы по формированию эстетических средств, идеально соответствующих выражению внутреннего посыла любой степени сложности, загадочности, запутанности, тревожности, наивности, двусмысленности, азартности и даже агрессивности, чуждого лишь одному - спекулятивности, чем бы она ни была внешне замаскирована. Постмодернизм, выставивший слоган актуального антиискусства, положил конец героической эре "другого искусства" - эре пронзительной искренности чувств, опасного выплеска нескрываемых эмоций, парада страданий и страстей, вырывающихся из самых темных глубин человеческой души, плавивших и сгибавших твердый металл машин, превращая его в роскошные детали гигантских барочных ассамбляжей. Провокативность актуальных форм, изрядно подпитанная креативно-энергетическим зарядом неисчерпанной иронии авангарда, хорошо покопавшаяся в его запасах, заимствовавшая оттуда тезис имперсональности творчества, чтобы объявить его собственной путеводной звездой и осмеять обкраденного и оболганного предшественника, - провокативность эта выхолостила и испепелила собственную сущность - протестность как неизбежную платформу самопроявления личности. При всей, казалось бы, грандиозной дистанции между актуальным искусством и обывательским восприятием, на мировом арт-полигоне наступило полное затишье, противоречия сгладились волной тотального равнодушия и скуки, пушки, издававшие некогда гром дискуссий, скрылись под пыльными серыми чехлами дозволенности, возможности, приятия, а главное - неколебимой обыденности всего и отчленения от личности тех особых форм ее выражения, что когда-то составляли приоритет избранных. Выстрелы боевых орудий превратились в хлопушки и фейерверки, за внешней громкостью и яркостью которых царит мир и покой, время от времени нарушаемый квазиэпатажными выходками подвыпивших участников банкета. Таков странный пейзаж после объявленной смерти искусства. Печаль его созерцания вызвана даже не столько собственной его бессмысленностью, сколько отчетливым ощущением торможения, если не полной остановки динамического процесса обновления и принципиальных новаций. Это и стимулирует пресловутый вывод об окончательной исчерпанности культуры, о цитации, симуляции и ремейке как единственно допустимых отныне формах ее функционирования. Невозможность нащупать следующую, очередную ступень лестницы, куда бы она ни вела - в небо или еще куда - объясняется тем самым отсутствием противоречий, тем самым счастливым разрешением векового конфликта между "тем" и "другим искусством", который только и может своей могучей взрывной силой разрушить благодать и разметать плотину под лопастями вращающейся на одном месте водяной мельницы. Смерть искусства, декларировав абсурдность картины, исполненной живописными средствами, заместила ее рефлексией живописи, оперирующей ее же инструментарием, но подвергающей глумливому копированию все ее прежние виды и жанры, образные и пластические находки, технические достижения и нюансы. Имитируется и таким манером полностью дискредитируется любое направление, от классического до модернистского; осторожно обходятся только те, которые наиболее тесно примыкают к постмодернистским и поэтому трудно поддаются осмеянию. Симптоматично, что с этой фазой круговращения актуальной культуры вроде бы непонятно почему совпал бум мифологии подделок старого искусства. Не нужно быть прорицателем, чтобы узреть простейшую и четкую закономерную связь между апологией имитационности, заместившей творческую индивидуальность и уникальный потенциал художника, и восславлением беспримерного подвига безымянного фальсификатора, поправшего высмеянное величие титанов, на поверку оказавшихся мизераблями. Лозунг "И я не хуже" с добавлением любого имени - Леонардо, Айвазовского, Малевича или Поллока - порождение современной концепции актуального искусства и непманской психологии социума, а вовсе не результат новейших исследований... Впрочем, не станем отклоняться от темы. Итак вместе с анафемой другого искусства прозвучало насмешливое проклятие в адрес ищущего и страдающего мастера, философствующего визионера, стремящегося посвятить зрителя в тайны явившихся его фантазии откровений. Тип художника-экспрессиониста, обуреваемого страстью укрощения бурной живописной энергии, не моден. Полотна, на которых красочные массы, динамично пульсируя, спорят между собой в поисках высокой гармонии, редко встретишь на стендах продвинутых галерей. И все же не верится, что великое движение живописного экспрессионизма - одна из эстетических констант, определивших лицо ХХ века, - пресеклось и более не приносит плодов на ниве "первичного" творчества, способного без подсказки продуцировать оригинальные образы, насыщенные неподдельной эмоцией. Неясны еще контуры перспектив недавно начавшегося столетия, а первая семерка его лет уже незаметно пролетела. Явных перемен нет, но как-то подспудно укрепляется упрямая вера в неизбежное возрождение другого искусства - как явления и как понятия, вне рамок направлений и концепций, без натужных усилий кураторов, но при самоотверженной поддержке тех немногих, кто просто любит живопись и занимается ею по старинке: профессионально, не щадя своих сил и не питая амбициозных планов воспарения на Олимп, где некогда царили художники и где за последнее время число их сильно поубавилось. Безусловная примета наступления новой эры другого искусства - восстановление практики квартирных выставок и сопровождающих их спонтанных кухонных диспутов, неизменной темой которых остаются наши старые проблемы: как сделать мир лучше? куда идет искусство? как выжить художнику во враждебной среде? как сохранить верность собственным этическим принципам и преданность настоящим друзьям?... Квартира Валерии Горбовой и ее галерея, по счастью нашедшая пристанище на Винзаводе, тот круг художников, которые собираются здесь и экспонируют свои работы в рамках ее проектов - один из немногих, но уже достаточно ярко заявивших о себе очагов другого искусства. Алексей Фирсов - заметная фигура среди его столпов, человек, обладающий всеми признаками неординарной творческой личности, мыслящий крайне нестандартно, однако, не обуреваемый стремлением поразить общество эпатажными жестами. На фоне современных реалий буквально бросается в глаза атипичное качество его поведения: отсутствие приоритета творца над творимым, автора над продуктом его деятельности. Ныне это даже может показаться позой, если не принять во внимание то, что собственно составляет результат этой деятельности. С первых минут общения с Алексеем становится понятно, что он, будучи еще молодым, вне сомнений достиг совершенной внутренней зрелости, сформировал постоянно обогащаемое опытом, но вполне четкое мировоззрение, составляющее один из базисных элементов его искусства. Другой основополагающий элемент - как это ни странно сегодня звучит - мощный живописный дар, безупречное чувство цвета и владение формой, которое может быть дано только от рождения, благодаря которому человек и становится художником, и начинает писать на холсте - потому что иначе просто не может. Интеллектуализм, коего Фирсов отнюдь не лишен, призван входить в систему первооснов личности такого художника лишь на правах одного их факторов, не заслоняя, а дополняя чувственный импульс и пластическую маэстрию. Свойство это, в приложении к индивидуальности Алексея Фирсова, по сути не совсем верно характеризовать как интеллектуализм. Это скорее естественная мудрость и недюжинная способность стройно, но абсолютно не банально формулировать свою мысль. Интересно, что внешний облик Фирсова и его манера держаться мало ассоциируются с представлением о художнике-экспрессионисте, каким он предстает в своей сверхэнергичной, сверхкорпусной и сверхвыразительной по колориту живописи. Он производит впечатление обычного, скромного, немного провинциального человека, не склонного вещать и позировать, умеющего внимательно слушать других, но имеющего по каждому вопросу свое собственное мнение. Это тип настоящего русского интеллигента старой закваски, может быть, и не чуждающегося богемы - или по-нынешнему тусовки - но относящегося к ней с юмором и иронией. Фирсов действительно не любит столичного шума и гламурных мероприятий. Он живет в Воскресенске, хотя и не далеко от Москвы, но так, чтобы полностью отрешиться от вовлекающей в свой круговорот ежеминутной суеты. Тут судьба и житейские обстоятельства совпали с внутренними потребностями художника. Его устраивает жизнь на окраине простого и, казалось бы предельно антиромантичного промышленного областного города, в простом панельном доме, без излишеств, но и без демонстративного аскетизма. Заурядно, - посетует кто-нибудь. Но в том-то и дело, что празднично-призрачные радости многолюдных сборищ и салонов, как и наслаждение картинами природных красот, заменяет ему живопись, средствами и возможностями которой он умеет управлять, руководствуясь собственным замыслом и собственным сценарием. Удивительным качеством, резко выделяющим Фирсова на современном фоне, является принципиальная скоординированность его творческих задач с осмыслением и интерпретацией натуры. Причем, в произведениях его нет и тени академического копирования либо псевдо-пейзажного кича. Он любит натуру, не специально избранную, не броскую, лишенную экзотики, точно так же, как любит живопись, традиционную в своей основе, но оказывается еще не полностью раскрывшую свой потенциал и чреватую новыми находками. В полном смысле этого слова он создает образ видимого мира, трансформируя его очертания, но не теряя связи с приметами окружающей реальности. И пусть до него этим занимались многие мастера самых разных школ и эпох - ему удается отличаться от всех них, и в этом настоящий подвиг художника. В напряженной, синкопированной ритмике резко выявленных, подвижных, пламенеющих красочных мазков, создающих живую ткань рельефной фактуры, проступают преображенные формы деревьев, узловатые стволы и оголенные ветви которых сообщают образам открытый драматизм. Как в картинах Эль Греко, среда, в которой обитают пусть даже самые обыкновенные предметы, превращается в фантастический мир, где происходят чудеса и возникают видения. Краски и их сочетания обретают светоносность, заставляя картинную поверхность не только жить и дышать, но излучать свет, открывающий свою романтическую и мистическую природу. Чрезвычайно развитая интуиция позволяет художнику через созерцание объектов природы осуществить внутренний контакт с ее глубинным бытием, полным бушующих сил, метаний и противоречий, жизнеутверждения и переживания боли. Пейзаж Фирсова - это своего рода экспрессионистическая органика, результат концентрации на проблеме живописно-пластического воплощения живой жизни в ее наиболее непосредственном проявлении и одновременно - итог расширенного видения, когда зритель оказывается погружен в пространство картины, вовлечен в ее движение, окружен магическим хороводом жилистых, мускулистых, бесконечно танцующих дриад. "Живые деревья" Фирсова отрицают и искореняют два существенных параметра классического канона пейзажной лирики. Они не изобразительны и подчеркнуто не стильны. Следствием этого становится интеграция пространства и предметной формы, а также полное устранение различий между линией и цветовым пятном. Они взаимозаменяемы и, кажется, свободно обмениваются ролями в зависимости от того, какое настроение господствует в картине, какая интенция преобладает в ее визуальном воздействии. Не слишком большие по размерам, но максимально нагруженные краской картины, с которыми художник работает как скульптор с материалом, - сегодняшний день творческой эволюции Алексея Фирсова. Было бы ошибкой считать, что он пришел к этому живописному методу легко и быстро, как к озарению. Но и особо тяжким путь его поисков не выглядит. Несколько лет назад он работал в более отвечающей веяниям времени манере, писал масштабные монохромные городские виды с подтекстом рефлексии тотальной урбанизации и стандартизации жизни. Затем обращался к изящной орнаментализации в духе картины-панно модерна с ее мозаично-драгоценной поверхностью и тончайшей нюансировкой сдержанного цвета. В этом художник достиг очевидных успехов: блистателен "Портрет Валерии Горбовой", удачен "Натюрморт с белым кофейником". Но в том-то и дело, что эксплуатация найденного приема означает для Фирсова опасный тупик и бесстрашно отвергается, чтобы дать дорогу не испробованным, но ощущаемым в себе новым тенденциям. Впрочем, это отнюдь не подразумевает нигилизма по отношению к творческим наработкам предшествующего периода, к профессиональным достижениям и приобретенному багажу мастерства, который вовсе не воспринимается художником как обуза. Не начиная с чистого листа, он поднимается по ступеням собственного эстетического развития, на каждой из них пересекая площадку и продолжая путь уже по новой лестнице. Так неоспоримый талант портретиста, реализованный в более традиционных формах, Фирсов сплавил с экспрессионистским характером своей сегодняшней живописи. Получилось не менее удачно, но куда более выразительно, хотя задача, поставленная художником, теперь оказывается особенно сложной. Тяготение предметных очертаний к дематериализации, пространства - к импульсивному сжатию и деформации, живописных средств - к самостоятельной выразительности должно органично сочетаться в портрете с конкретикой облика модели и передачей специфики ее внутреннего мира. Эти требования жанра, с которыми истинный мастер не может не считаться, неизбежно подводят к предпочтению автопортрета. В нем художнику предоставлено неоспоримое право варьировать образное решение, доводя его до границ произвола. Подвергая анализу пласт произведений живописного экспрессионизма Фирсова, можно рассматривать его как шкалу, расположенную в диапазоне между полюсами предметности и беспредметности. К первому примыкают портреты и архитектурные пейзажи. У второго группируются те работы, в которых очертания деревьев оказались окончательно побежденными спонтанностью красочного бытия и темпераментом борьбы с изначальной инертностью белого поля холста. В них полностью исчезли категории рисунка и пространства, но очевидно активизировалась музыкально-композиционная составляющая картины, выстраивающая сложнейшее многоголосие клокочущих красных, кирпичных, бордовых, терракотовых, пронзительно-мелодичных жемчужно-серых и лазурно-синих тонов. Экспрессивно-страстная трансформация природы переросла в ее метафору, созданную посредством синестетического взаимопроникновения живописного и музыкального начал. Возвращенная искусству индивидуализация творческого акта, в полный голос заявляющая о себе в произведениях Алексея Фирсова, сопутствует другой его важной особенности, свидетельствующей о принципиальности этико-эстетической позиции художника. Особенность эта заключается в преемственности и актуализации избранных или интуитивно воспринятых родственных истоков, в противовес фрагментарно-аппликативной цитации "исходников". Можно вычленить три основных традиции, которые в той или иной степени питают живопись, видение и сознание художника. О первой из них он говорит сам. Она выступает для него как символ метафизического образотворчества и как неисчерпаемый источник вдохновения, хотя само существование его ныне ирреально и овеяно ореолом трагедии. Это знаменитые и большей частью утраченные во время второй мировой войны фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Великого Новгорода. Она была построена в 1352 году и расписана в 70-80-х годах XIV века легендарным мастером - последователем великого Феофана Грека. Однако темпераментное письмо неизвестного средневекового художника значительно превосходит живопись Феофана в трепетности и причудливой игре кисти. Фрески волотовской церкви были уникальным в своей одухотворенности и экспрессии примером широчайшего диапазона и богатства художественного потенциала искусства средневековой Руси. "Это один из самых фантастических по духовному накалу памятников древнерусской живописи, фигуры, линии, контуры там рвались подобно молниям, в отличие от гармонии и лиричности Рублева Волотово потрясало каким-то немыслимым трагизмом." - писал искусствовед Григорий Ревзин в статье о восстановлении храма. Своеобразие росписи храма заключалось в том, что основное внимание ее автора привлекали сюжеты, посвященные общению человека с Богом. Земные люди оказывались лицом к лицу с чудесным, божественным началом, и это приводило их в чрезвычайное волнение. Непостижимая небесная тайна спускалась на землю и переживалась человеком как его собственный духовный опыт. Отражая это особое состояние, искренний сердечный порыв к высшему, страстное желание единения с Богом, художник наполнил изображения необыкновенным динамизмом и экспрессией, хотя и не отступил в росписях от сложившегося церковного канона. "Все в них очень оживленно, подвижно и экспрессивно," - писал о фресках Волотова М.В.Алпатов, отмечая в то же время их архитектоничность и удачу мастера в достижении синтеза живописи с архитектурой. История обошлась с волотовским храмом и его росписью жестоко. Во время боев с фашистами все церкви на левом берегу Волхова служили обеим сторонам единственными высотами, там помещались огневые точки, которые враг уничтожал вместе с памятниками. Так погибли и потрясавшие воображение современников и потомков росписи Волотова. Сохранился лишь остов церкви и несколько тысяч фрагментов, законсервированных реставраторами в 1955 году. В 1990-е годы началась работа по восстановлению фресок. Было найдено несколько уцелевших крупных фрагментов, в мастерских Новгорода удалось собрать отдельные композиции. В 2001 году было принято решение о полном восстановлении архитектурного облика храма на средства немецкой стороны, что и было осуществлено в поразительно короткие сроки - менее, чем за три года. Причем старинная церковь была не просто реконструирована, но собрана руками реставраторов по кирпичикам, с точным соблюдением кривизны и неправильности монументальных форм древней новгородской архитектуры. Продолжается и реставрация фресок, которую планируют завершить к 2010 году. Конечно, реконструировать и вернуть в храм весь цикл росписей невозможно. Но сделанное ныне воодушевляет: помимо фрагментов, находящихся в мастерских, укреплено уже более 40 квадратных метров фресок; из 195 композиций могут быть восстановлены целиком и почти без потерь 95; применяя новейшие методики, реставраторы мастерской А.П.Грекова работают над стыковкой одного миллиона семисот десяти тысяч крупных и мелких осколков живописи! Разумеется, даже при таких успехах реставрации никому и никогда не удастся увидеть первоначальный живописный образ волотовского храма. Его передают лишь исторические источники, запечатлевшие изображения фресок в фотографиях, копиях художников конца XIX - начала XX века, чертежах, кальках и отдельных зарисовках. Доселе они преимущественно служили материалом для научных исследований специалистов. Алексей Фирсов - художник с бурной, рождающей миры фантазией - на их основе создал свой, воображаемый, но тем более впечатляющий образ фресок Волотова. Едва ли он адекватен тому, который хотелось бы увидеть педантичным реставраторам и ученым. Но перед внутренним взором художника он обрел вторую жизнь, чтобы стать мифопоэтическим источником его замыслов. Подобно тому, как герои фресок переживают встречу с чудом, Алексей Фирсов сердцем воспринял соприкосновение с живописью Волотова, наделив ее таинственной силой первоисточника всего мирового экспрессионизма. Другой, не менее важной традицией выступает для Фирсова искусство русского авангарда. Мимо нее не может пройти ни один современный художник, не отвергающий в своем творчестве пластических ценностей. Русский авангард - формообразующий базис, с учетом открытий которого складывается эстетический язык, основанный на построении в картине второй реальности, живущей по своим, художественным законам, но не теряющей связи с первичной, окружающей человека, питающей его интеллект и внутренний мир. Развеществляя действительность и подвергая ее субъективному анализу, художник вычленяет из нее те компоненты, которые кажутся ему наиболее соответствующими его переживаниям. Между этими выбранными компонентами устанавливаются новые и необычные с точки зрения здравого смысла связи. Возникает ирреальное, деформированное пространство, в котором определяющую роль отныне играет не перспектива, естественное освещение и размеренное движение населяющих действительность предметов, а прихотливая динамика душевных порывов и загадочная метафизика света. Наконец, третий источник, питающий творчество Алексея Фирсова и отвечающий его острой потребности в эксперименте с самой техникой исполнения живописи. Это интернациональная школа модернистского искусства, контакт с которой способствует обретению полной свободы самовыражения, не отягощенного комплексом недозволенности, системой запретов, чувством осторожности и какими-либо иными требованиями автоцензуры. Интуитивная память художника аккумулировала неоэкспрессионистический гротеск, Art brut и инстинктивный поиск неразведанных ресурсов живописи, увлекавший Дюбуффе; льющуюся прямо из тюбиков на холст красочную лаву Фотрие; пастозный визуальный пир картины, творимой ударами руки Мэтью. От этих бунтарей, посвятивших всю жизнь борьбе против рационализма за преображающую все и вся сущность живописи, Фирсов усвоил отношение к работе над картиной как к священнодействию - так Мишель Тапье восторженно характеризовал творчество Дюбуффе. В этих же кладовых художественного информализма сохранились рецепты технологической алхимии, от которых отталкивается Алексей в своих казалось бы бесшабашных экспериментах со связующим живописи, с антиметодичными приемами многослойного письма, с нетрадиционной обработкой картинной поверхности. Конечно, все свои технические "заморочки" Фирсов разработал самостоятельно. Однако тип художника-изобретателя, вдохновленного ароматом и податливой массой красок, колдующего в своей лаборатории или выносящего магический процесс рождения шедевра на глаза публики, спонтанно и счастливо смоделирован под обаянием родственного образа истинно творческого бытия. Искусство Алексея Фирсова, другое по отношению к маскараду мейнстрима, да и вообще к любой иной версии индивидуального или группового проявления творческой воли, не постулируя и не провоцируя, оставаясь абсолютно личным делом и личной потребностью автора, пристраивает свою надежную конструкцию к мосту, соединяющему великую экспрессионистическую традицию прошлого с современностью. Но путь, пролегающий по этому мосту, не обрывается над пропастью сегодняшнего дня. Живая ныне преданность не умирающим ценностям живописи вселяет надежду на его изначальную крепость и жизнестроительную энергию будущего обновления. Мария Валяева Кандидат искусствоведения Ведущий научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи |
| Художник Алексей Фирсов Контактный e-mail: firsov-alexey@yandex.ru |
Создание сайта fasheye.com |